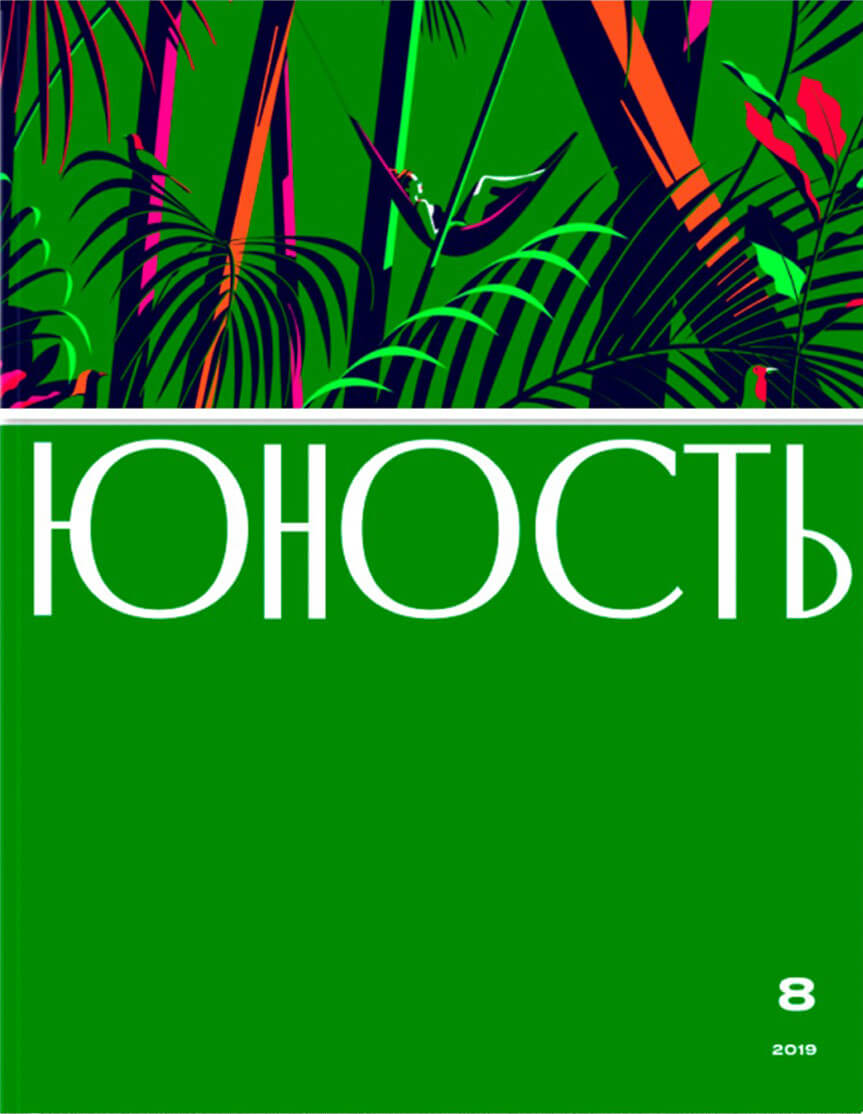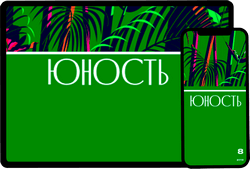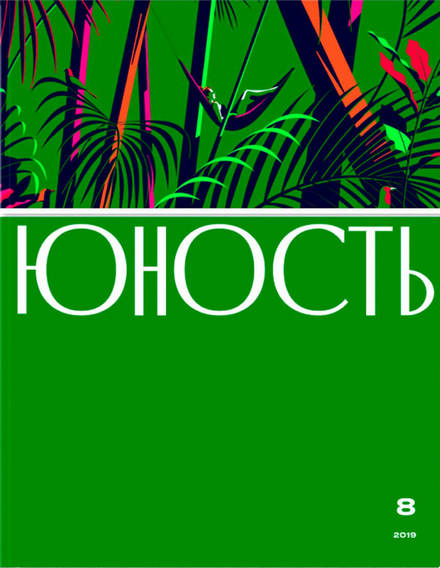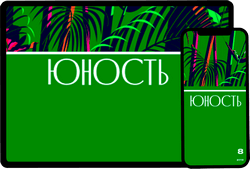Велимир Хлебников до сих пор остается самым непонятым русским поэтом. Общепризнана его гениальность, но стихи его оставляют смешанные чувства у читателей. Что это — постмодернистские эксперименты или поток заблудившегося сознания? Мантры юродивого или точно рассчитанные чертежи? Его называли поэтом для поэтов, подразумевая, что силу и глубину его творчества может оценить и понять лишь тот, кто сам неотступно и ежедневно работает со словом и звуком русского языка.
Хлебников очень русский поэт и очень русский герой. Он действительно выглядит как юродивый: худой, светловолосый, с таким взглядом, словно он смотрит сквозь собеседника. Кажется, он видит то, что другим недоступно. Его, как сухой осенний лист, мотает по всей стране, и нигде он не может пустить корни, и чем старше он становится, тем меньше он способен противостоять своей внутренней тяге к перемене мест. Кажется, что он сам не знает, чего хочет. Кажется, он так и не перестал быть ребенком. Кажется, что если его не покормить, он сам этого не сделает, кажется, что ему всегда нужна помощь.
Но Хлебников со всей его детскостью был невероятно сильным человеком с твердым характером. В это сложно поверить, читая, к примеру, воспоминания Каменского о первом знакомстве с ним. Каменский, будучи студентом, в то время работал редактором в журнале «Весна»:
«Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.
Я вышел на площадку — шаги исчезли.
Снова взялся за работу.
И опять шаги.
Вышел — опять исчезли.
Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами на меня.
Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:
— Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста.
Студент что-то произнес невнятное.
Я повторил приглашение:
— Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один.
Моя простота победила — студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошел в прихожую. <…>
— Садитесь. И давайте поговорим.
Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потер высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.
Так мы молча смотрели друг на друга и улыбались.
Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.
— Вы что-нибудь принесли?
Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил ее винтом и подал мне, как свечку:
— Вот тут что-то… вообще… И больше — ни слова».
Да, Хлебников производил впечатление крайне скромного и неуверенного в себе человека. В быту он был не то что неприхотлив — неприхотливы те, кто готов довольствоваться малым. Хлебникову, казалось, не было нужно вообще ничего. Но то, что он создавал, он создавал с невероятной самоуверенностью. Его стихи не вмещались ни в какие рамки. Его слово- и звукотворчество было таким объемным, что казалось, оно имеет несколько измерений. Даже его ранние произведения очаровывали. Это было что-то новое, что-то непонятное, но завораживающее. Действительно, нужна подлинная сила духа, чтобы создавать нечто, настолько непохожее на все, что было вокруг.
В свой первый приезд в Петербург Хлебников попал в известное богемное тусовочное место, в Башню к Вячеславу Иванову, «ловцу человеков», как его называла Ахматова. Пророк символистов и большой знаток поэзии, Иванов сразу разглядел в Хлебникове что-то необыкновенное, какой-то сумасшедший талант, но, как всегда бывает с умудренными интеллектуалами, Иванов подошел к творчеству Хлебникова со своей символистской линейкой, от всей души стараясь помочь молодому поэту огранить свой талант. Но Хлебников не хотел такой огранки — и в этом как раз и проявлялась внутренняя его сила. Возможно, он и сам не отдавал себе в этом отчет, но он просто не мог заставить себя послушно меняться. Он, безусловно, хотел признания. Например, он пишет своей маме в 1908 году: «В хоре кузнечиков моя нота звучит отдельно, но недостаточно сильно и, кажется, не будет дотянута до конца».
Но никогда Хлебников не менял себя и не менял свое творчество, чтобы больше понравиться публике или чтобы уважить признанного мэтра. Пожалуй, он был просто не в силах изменить себе, даже если бы захотел. В 1909 году его стихи готовят к изданию в моднейшем журнале «Аполлон», но он избегает договоренностей, и в итоге строки Велимира там не появляются. Со стороны его постоянные переезды могли выглядеть как побеги — он никогда не мог внятно объяснить, почему и зачем он снимается с места и бежит. В 1919 году Маяковский хлопочет об издании его стихов, и нарком просвещения Луначарский вполне одобряет эту идею, но Хлебников внезапно срывается с места и уезжает в Харьков. Конечно, для признания Хлебникова как поэта издание книги было бы полезно. Но какая-то внутренняя сила гонит его прочь, и Хлебников всю свою жизнь был верен этой силе. И если бы он изменил ей, он не смог бы стать Велимиром, тем сказочником и словотворцем, каким он стал.
Конечно, не многие могли оценить его характер. Композитор-авангардист Артур Лурье, который был способен сочетать проницательность с симпатией, так писал о Велимире: «Когда говорят о человеке в его присутствии так, как если бы его здесь не было, и человек этот не реагирует на разговор о нем, то это означает, что он достиг какой-то подлинной, высокой степени человечности; у таких людей нет эгоцентрической реакции, обращенной на самого себя. Это очень русская черта, являющаяся проявлением чистоты и духовной свободы. Хлебникова в глаза называли идиотом, и я видел, что он обидного, говорившегося о нем, не слышит и не воспринимает. Совсем как Мышкин в «Идиоте»! Хлебников при этом не был «размазней», напротив, он умел становиться очень решительным, властным, саркастичным, но проявлял эти черты всегда только в плане идеи, в аспекте творчества, а не в плане бытовом».
Да, Хлебников был крайне сильной натурой в творчестве, но нельзя сказать, чтобы его гений владел им. Хлебников сам контролировал, взращивал и развивал свою творческую силу, и делал это крайне осознанно. Есть поэты, такие как Андрей Белый, которые не владеют собой, которые будто по телефонному проводу принимают сигналы из космоса и записывают их на бумагу. Есть такие, как Валерий Брюсов, добившиеся признания постоянным и кропотливым трудом. Гений Хлебникова в том, что он сочетал оба этих таланта. Иначе невозможно было бы сочинить поэму «Разин», каждая из четырехсот строк которой является палиндромом:
Сетуй, утес!
Утро чорту!
Мы, низари, летели Разиным.
Течет и нежен, нежен и течет.
Волгу див несет, тесен вид углов.
Никаким естественным талантом невозможно написать такую поэму. И никаким каждодневным трудом нельзя взрастить в себе способность написать:
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
Хлебников всю свою жизнь неустанно трудился над словом и над звуком своих строк — и в то время, когда был студентом и пытался реализовать мечту своего отца и стать орнитологом, и в то время, когда он, симулируя сумасшествие (что ему было сравнительно просто), скрывался от призыва в деникинскую армию, и когда работал учителем детей персидского шейха. И труд его был осознанным.
Хлебников с юности чувствовал свою славянскую, русскую природу, изучал и развивал свои «славянские чувства». В конце нулевых годов он погружается в русские мифы и наполовину изучает их, а наполовину создает их сам. Тут, конечно, не обошлось без влияния Иванова, Сологуба и Ремизова, но Хлебникову тесно в пространстве официальной мифологии, и он расширяет и умножает это пространство: в сказке «Снежимочка» вместе с бесами и лешими появляются снегини и смехини, Березомир и Древолюб. И непонятно: снегини и смехини — это разные персонажи или проекции многомерной богини, которую создает Хлебников?
Творчество Велимира многообразно и многомерно. Он всю жизнь изучал взаимосвязь вещей, чисел, звуков и слов. Каждое слово в каждом его стихотворении занимает точно отведенное место, вынь его — и появится зияющая дыра. Хлебников не просто транслирует языческие мифы, для него мифы — это живое пространство, и если оно живо, оно может порождать новых сущностей. И сам русский язык для Хлебникова был таким же пространством — живым и самовозрождающимся. Лингвисты согласятся, что язык не мертв, что он постоянно меняется и эволюционирует, но лингвисты наблюдают эти изменения со стороны.
Хлебников же будто нырнул в это идеальное море русского языка, рассмотрел и перевернул все ракушки в нем и познал всех рыб. Из одного корня он создает десять новых глаголов и десять новых прилагательных, но это не бесплодные умствования интеллектуала. Каждое новое слово, которое создает Хлебников, — настоящее, живое слово русского языка, просто его почему-то не используют люди. Как понять, что это не бесплодные умствования и не постмодернистский эксперимент? Хотя бы по восхищению окружающих поэтов, а уж кто, как не они, имеют право на глубокое чувствование языка, и да, Хлебниковым восхищались даже те, кто не мог его понять.
Если в пантеоне языческих русских богов и есть место для бога — покровителя русского языка, то имя у этого бога, конечно, Велимир.
Хлебников погружается все глубже, для него теперь имеет значение не просто слово, а каждый звук в нем. Теперь не просто слово должно лечь в точно отведенное место, но и каждый звук слова должен лежать в однозначной и верной позиции. Именно оттуда все эти непонятные слова: облакини, поюны и времири.
Их можно сравнить с мюмзиками в мове — но разница есть. Бармаглот — это очевидная интеллектуальная игра в то, как мог бы звучать язык. Стихи Хлебникова — не игра. Хлебников вообще относился ко всему, что делал, крайне серьезно. Он был фактически аскетом, посвящая всю свою энергию единственному действительно достойному делу — стихам.
Каждый звук — а, э, о, у — для него тоже значение и смысл. Стихи наподобие
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
— это же буквально продукт работы научно-исследовательской алхимической лаборатории по изучению русского языка. На этом фоне маяковское
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!
— результат ученика, глядящего на работу мастера. Я пишу эти строки, и понимаю, что мне не хватает слов, чтобы описать действительную силу творчества Хлебникова. Я прямо чувствую бессилие и тоску от невозможности показать действительную глубину и истину в творчестве Велимира Хлебникова. Возможно, об этом творчестве можно было сказать только этим, абстрактным, свободным от академических рамок языком, о лебедиво, о озари, — но, очевидно, такое эссе не смогут понять читатели. Возможно, сквозь этот текст вы можете почувствовать мои собственные переживания и поэтому поверить ему. И именно так стоит читать самого Хлебникова: за всеми его строками чувствуется подлинная, таинственная и могучая сила.
Слава богу, на жизненном пути Хлебникова ему встретился Каменский, который свел его с Бурлюками и ввел в круг футуристов. Верный своим славянским идеалам, Хлебников нырнул в абстрактное море русского языка и выловил оттуда не перевод, но аналогичное название для этой группы поэтов: будетляне. Футуристы с их неукротимой революционной энергией твердо шагали в будущее. Суперзвезда Владимир Маяковский и идеолог Давид Бурлюк взяли на себя заботу о Хлебникове. Велимир стал гуру и святым в их воинствующем ордене. Почти половину программного сборника «Пощечина общественному вкусу» составляли стихи Хлебникова. Велимир с упоением погрузился с Крученых в создание «зауми», разбирая русские слова на мельчайшие детали и собирая их в новые. Поддержка и признание для Хлебникова, как для любого поэта, были необходимы — и в то время он творил с учетверенной энергией, но даже среди футуристов он выделялся. Пожалуй, ни один манифест, ни одна программа не могли вместить Велимира. Он всегда был больше, чем любая форма, — как ни одна форма в мире не может вместить море.