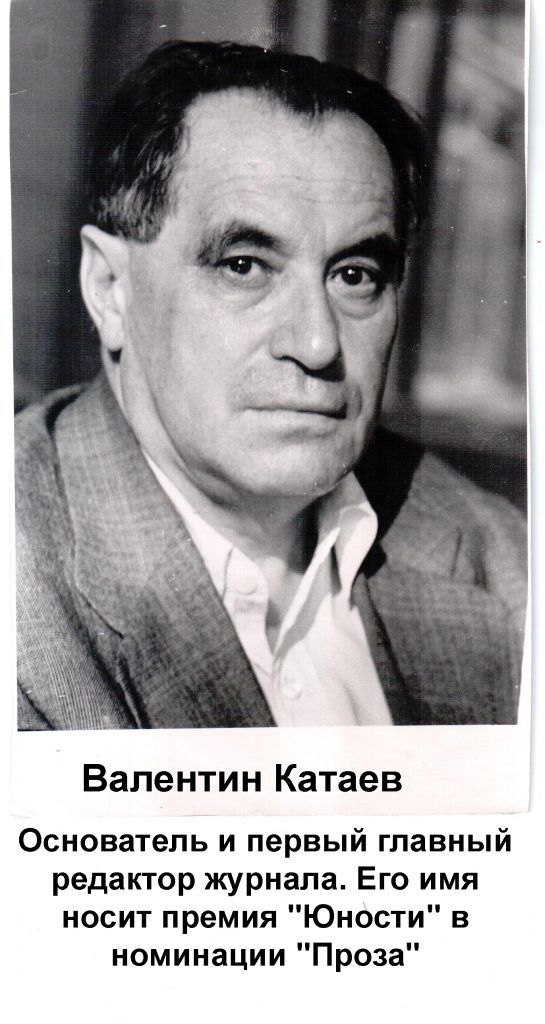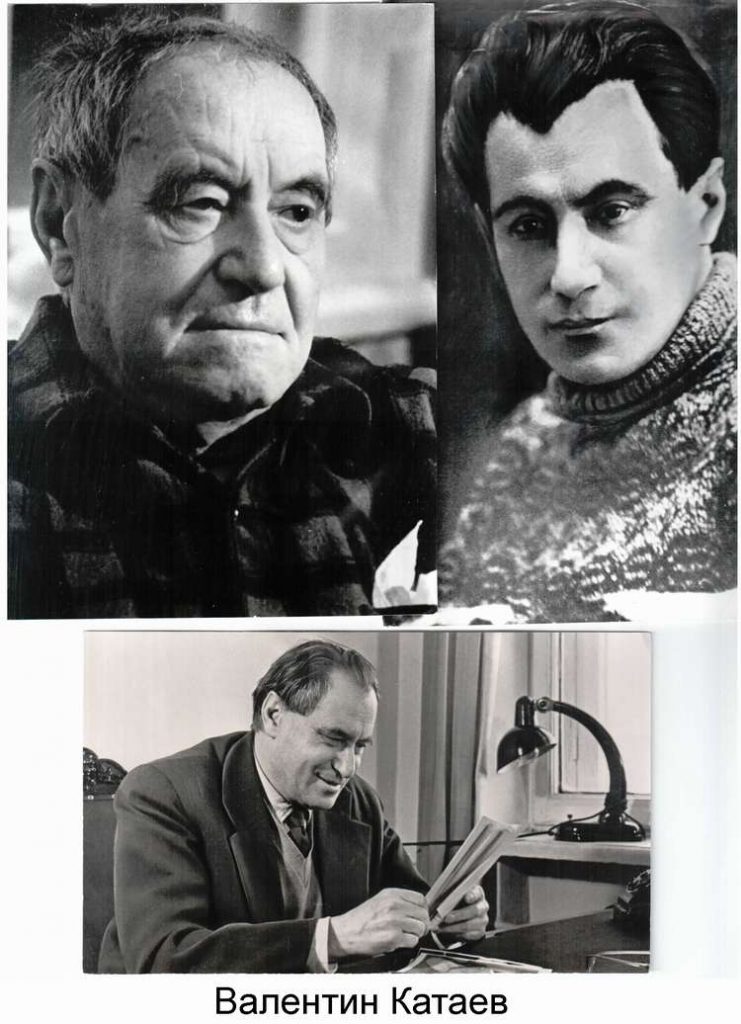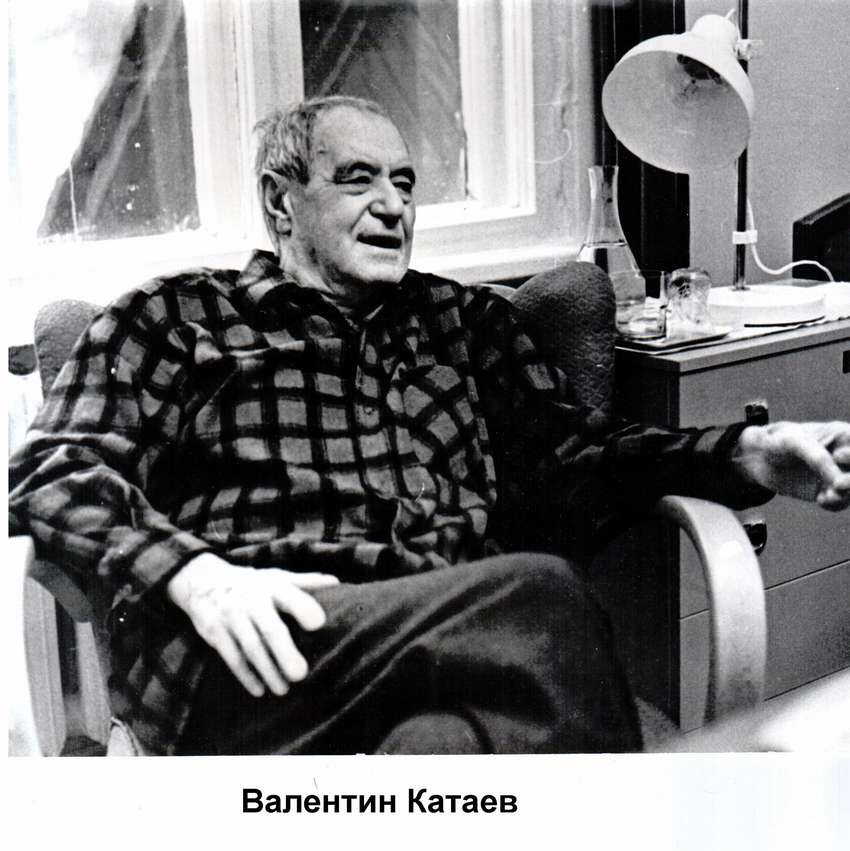На хлебозаготовках 1929—1930
Продолжение. Начало в № 10 за 2017 год.
В Петровке буйствовал Анатолий Сахно. Молодой парень, он служил в Красной армии, и его оттуда поперли как кулака. Вернулся домой он злой и основательно запил. А во хмелю оказался буйным. Лаял всех на свете, грозился башку свернуть и даже бил окна в помещении сельсовета. Я его как-то вызвал на объяснение. Но он явился трезвый, и хоть хмурый, но тихий, и упорно все отрицал: «Брешут все на меня, товарищ уполномоченный. Да разве я позволю?» Отпустил я его, а он на другой же день напился — и давай за членом сельсовета с ножом гоняться. Решили его арестовать, а дома у него хлеб «пошукать». Вообще я к этому редко прибегал. Прятали очень хитро, и не знаючи такой хлеб черта с два сыщешь. А в то же время обысканный получал право заявлять: «Так вы ж сами шукали. Нема у мене хлiба». На этот раз хозяина мы все равно забирали, так что обыск получался попутный.
В хате нас встретила по-затрапезному одетая жена. Вид горестный. «И за что это его? Господи боже! Наговорили на него. Да и хлеба нет у нас. Посмотрите, чем детей годую». Демонстрируется какая-то прошлогодняя <нрзб> чуть не из одной мякины. Одна из понятых говорит мне вполголоса: «Это правда! Детишки у нее завсегда голодные бегают». Но мы пришли делать свое дело и принимаемся за него основательно. Идем в клуню. Там гора мякины. «Вот ее и едим. Нема у нас хлеба», — ввертывает последовавшая за нами хозяйка. Прощупывание длинным щупом результата не дает, хлеба под мякиной не обнаруживается. Но Петр Кравцов обращает внимание на состав мякины: «А чего вы ее с хлебом помешали? Здесь богато хлеба будет, если провеять». Хозяйка вянет — возразить нечего. Но окончательный удар, после которого она совсем стихает, наносят ей тогда, когда под печью обнаруживается «кувшин» — яма с узким горлом и широким дном, в которой хлеба с избытком хватит на покрытие всей задолженности Сахно. Решаю забрать весь хлеб и оставить лишь минимум на прокорм. Хозяйка аж воет от злости, но поздно. Член комиссии удивляется: «Вот какое дело. Детишек голодом морила, а у самих столько хлеба».
Обратно едем с Петром на разных подводах, на «раскулаченных» лошадях Сахно. По дурости гоним наперегонки, лошади разносят и перед самой Лубянкой грозят свалить в глубокий яр. Едва сумели удержать, а Петро так все руки себе отморозил, держась за вожжи голыми руками.
Так вот понемногу я и втянулся в свою роль уполномоченного. Для солидности и отчасти из лени запустил бороду и казался, во всяком случае, старше своих лет. По крайней мере, однажды один из комсомольцев спросил: «А сколько вам лет, товарищ Катаев?» Я, опять-таки для солидности, соврал: «С 1905-го». — «Ну нет, — не поверил он. — Вот я с 905-го, а вы, мабуть, с 95-го будете».
Заготовки доставили мне друзей главным образом из комсомольцев и бедноты, но они же мне и врагов наживали. Людей интересовало: «И где же вы свою “пушку” прячете?» — «Да нигде. У меня ее нет». Недоверчивые ухмылки: «Рассказывай, мол».
Жил я по-походному. Домой являлся редко: все в сельсовете да в клубе торчал. Питался неплохо. Вообще у Артемьевых насчет еды было не тоще, да вдобавок я из сельпо кое-что покупал. Помню, как-то раз забрал там с десяток пакетов шоколада с молоком в порошке и с полмесяца им баловался. У населения денег было очень мало, и охотников на такую роскошь просто не находилось. Хуже было дело с одеждой. Я приехал в кожаном пиджаке, кепке и ботинках, а зима оказалась серьезной. Вообще — кругом степь, и до моря далеко. Бураны задували неестественные. В один такой буран, дело, помнится, было в феврале, вскоре после моего переезда в Алмазное, один <нрзб> замерз, дойдя почти вплотную к окраине села: в метель не сумел найти дорогу. Ходили слухи и о других случаях.
Я как-то в сильный мороз с ветром пошел водку в одном месте отбирать: в худых валенках и каком-то сомнительном пиджаке. Видно, проклятая шинкарка возымела силу. Я вечером пришел на какое-то совещание в сельсовет и почувствовал озноб. Под шутки колхозников я забрался на печку, а когда совещание кончилось — едва сполз с нее: голова отяжелела и кружилась, члены не подчинялись моей воле. Одним словом, я недели полторы провалялся в гриппе, большей частью без памяти. Болезнь внушила моим хозяевам серьезную тревогу. «А вдруг бы ты помер, — объясняла мне потом старуха, — ведь на нас бы что тогда сказали? Засудили бы».
Не нужно думать, что я обязан был только хлеб заготовлять.
Во-первых, в силу установившейся традиции, я как уполномоченный обладал фактической властью больше, чем предсельсовета Волошин. Ни одно более или менее мероприятие в сельсовете не проводилось без моей санкции. Во-вторых, в районе были склонны рассматривать уполномоченного как полновластного представителя района и потому давали ему одно поручение за другим, никак не связанные с хлебозаготовками. Я должен был, если верить многочисленным бумажкам-удостоверениям, присланным из района с нарочными, и яйца закупать, и учет военнообязанных производить, и телят контрактовать, и коллективизацию проводить, и еще много кое-чего делать. Конечно, в большинстве эти бумажки так и оставались бумажками, но все же деятельность моя была довольно разнообразная.
Не помню, кого и по какому поводу судила выездная сессия районного суда, но я там выступил в качестве общественного, а фактически, за отсутствием такового, в качестве государственного обвинителя. Больше всего я заботился заучить заключительную фразу, составленную мне судьей: «На основании ст. N. уголовного кодекса и статьи M. уголовно-процессуального кодекса я требую сделать с подсудимым то-то и то-то». Требование мое, хоть я его сейчас, убей бог, не помню, разумеется, было выполнено.
Поступили как-то сведения, что одна крестьянка занимается шинкарством. Водку у нас было запрещено продавать, а в Чилике ее можно было достать свободно. Это, естественно, создавало благодатную почву для спекуляции. Забрав с собой понятых, я отправился обыскивать. Хозяйка встретила нас сугубо неприветливо. Открыла не сразу, кобеля не привязала и даже пыталась подвергнуть сомнению законность нашего вторжения. Но разве это могло нас остановить? Вломившись в хату, мы начали шарить во всех углах. За «богами» нашли пол-литра, но это не доказывало еще шинкарства и потому мало нас устраивало. Я вышел в переднюю хату, а хлопцы продолжали «шукать». Вдруг мне сообщают, что надо бы посмотреть в скрыне, но что это-де неудобно: по обычаю, в хозяйкину скрыню не положено заглядывать. Нарушить обычай мне представлялось не труднее, чем нарушить закон, и я велел, вопреки сопротивлению хозяйки, скрыню вскрыть. Там обнаружили четверть и несколько литров водки. Ох уж как нас лаяла хозяйка и даже пыталась кое-кого из понятых ухватом огреть. Должно быть, с ее проклятий меня и схватил вышеупомянутый грипп.
Ну и, разумеется, одной из основных задач моих была коллективизация.
В селе и раньше существовала коммуна «Красная Звезда». Пользуясь поддержкой государства, коммуна неплохо организовала свое хозяйство. Члены ее жили во всяком случае не хуже середняков, свои обязательства по хлебопоставкам она выполнила давным-давно, но этим ее прогрессивная роль не ограничивалась. Жили коммунары замкнуто, как-то по-семейному. Верховодили там Шугай, истый украинец, исполнявший обязанности председателя и полевода, и Иван Максименко — счетовод, успевший набраться «кацапского» духа. Мне они, в особенности Шугай, казались людьми симпатичными, и я с удовольствием, например, слушал рассуждения Шугая о том, какой мягкий украинский язык, хотя и не понимал, какая могла быть мягкость в замене «и» на «ы». В коммуне они пользовались непререкаемым авторитетом, чего нельзя сказать об остальном населении села. Мне по крайней мере приходилось слышать заявления о том, что пока в коммуне Шугай да Максименко (последний особенно), в коммуну нельзя идти. Их обвиняли в незаконных махинациях с хлебом, в деспотизме и т. д.
Жалобы эти дошли до района, и мне предложено было произвести ревизию наличия хлеба в амбарах и по документам. Это мне-то, который едва рожь от пшеницы отличал. Но я уже привык к тому, что я обязан все знать и всем верховодить. Дня три мы мерили хлеб и копались в документах. Обнаружили расхождения, но настолько незначительные, что приписать их злой воле руководства было затруднительно. Тем не менее для успокоения умов Максименко вызвали в район и… посадили в райколхозсоюзе. И, странное дело, народ, правда, агитированный и переагитированный раньше, пошел в колхоз массой.
Я едва знал отличительные признаки форм колхозов и уж, конечно, не мог иметь понятия об их преимуществах. В уставе было сказано, что коммуна является высшей формой колхоза — значит, дели коммуну. Правда, чутьем я понимал, что основное сейчас производство, а потому мы решили, что с обобществлением личного имущества мы пока погодим, а в первую очередь соберем хлеб и рабочий скот и сельхозинвентарь. Коммуна еще и потому мне казалась удобной: путем поголовной ссыпки хлеба семфонд создавался скорее, чем при взносе в него определенного пая, которого у бедняков не было. Таким образом, я по существу-то организовал артель под гордой вывеской коммуны. Малочисленная коммуна стала большим объединением, куда входило до семидесяти процентов населения села. Но району этого было мало, и он все время требовал сто процентов, чего я так и не сделал до своего отъезда.
Так протекала моя жизнь и деятельность в Лубянке. Итог ее можно подвести словами случайно подслушанного в клубе замечания по моему адресу: «Поди-ка, узнай человека. Вон наш уполномоченный приехал тихий да смирный такой, а как все повернул: и план [хлебозаготовок] выполнили, и в колхоз всех собрал». Попутно замечу, что по требованию массы и «для примера» мне самому пришлось вписаться в колхоз. Я, правда, не собирался оставаться в Лубянке навечно, да и все это понимали, но важно было то, что я, агитатор за колхоз, шел вместе со всеми в неизвестное колхозное будущее, а не только погонял остальных. А мои дальнейшие хозяйственные отношения представлялись туманной и не столь важной деталью. Ну, там, часть заработка буду высылать в колхоз или еще что. Ведь и отношения настоящих колхозников к колхозу не блистали ясностью.
В заключение хочу отметить, что если я приехал кацап кацапом и сильно удивлялся, когда мои собеседники произносили: «пiп», «кiшка» и т. д., то перед отъездом с кем-то у меня произошел такой разговор: «А какой вы нации будете, товарищ Катаев?» — «Русский, кацап». — «Мабуть, нi? Хiба кацапы так кажут?»
Всеми правдами и неправдами к середине января 1930 года план хлебозаготовок по сельсовету был выполнен. Ермаков мой смылся, и я имел все основания полагать, что меня вот-вот тоже отзовут. Не тут-то было.
Получаю с нарочным удостоверение о назначении уполномоченным по весенней полевой кампании. Я возмутился: ну, для заготовки хлеба нужен главным образом политический опыт, а ведь чтобы «сеять», так надо иметь знания по сельскому хозяйству. В довершение всего меня перебросили в начале февраля в соседний Алмазный сельсовет, с уполномоченным которого Блюденовым мы, по существу, соревновались по хлебозаготовкам.
Здесь я поселился у секретаря парторганизации Бойко. Дни пошли в заботах о ремонте сельхозинвентаря, о сборе семфонда и т. д. Учитывая опыт Лубянки, я для лучшего сбора семян собирался было организованную артель перевести на устав коммуны, чтобы полностью мобилизовать имеющееся зерно, но не успел. Я так надоел району своими протестами, что меня наконец вызвали в РИК.
Но сначала об одном эпизоде.
Это было время приезда двадцатипятитысячников. Приехал и в Алмазное, чуть постарше меня, шахтер, член партии. За дело взялся очень вяло. Его избрали председателем колхоза, но он больше думал о том, как бы домой попасть. И вот однажды вечером я подобрал у двери своей квартиры бумажку, исписанную корявыми печатными буквами, видимо, с целью изменить почерк. Эта бумажка и до сих пор у меня хранится. А смысл ее сводился к тому, что мне и этому предколхоза рекомендовалось уйти туда, откуда пришел, во избежание могущих последовать последствий.
«ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Товарыш рабочий
Я заявляю тибе еси не убиреся в 24 четыри часа туда откуда прибыл то не обижайся на свою судьбу еси не вбиреся то убирем сами вмести з хазяеном туда куда эт следуе пожалоста».
Я с большим любопытством прочитал это послание, но не испугался, так как знал и раньше, что кое-кому моя деятельность сильно не по нутру. Вернее сказать, я даже испытал своеобразную гордость: насолил, значит, врагам как следует, не даром хлеб ел.
Ну, и дернула меня нелегкая показать на другой день эту бумажку нашему предколхоза. Ожидаемых чувств у него эта бумажка не вызвала, наоборот, он помрачнел и еще больше задумался. Через день предколхоза исчез. Убоялся трудностей, убоялся опасности и, видимо, по дому слишком соскучился. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Через несколько дней выехал в РИК и я. Уже началась весна. До Лубянки кое-как доехали на санях, а оттуда меня отправили верхом до соседнего казахского аула. До этого я только на каникулах в Темире раза два садился на лошадь, а когда проехал двенадцать километров до аула, я едва смог идти.
В ауле пили чай. Вокруг кошмы расселось нас человек десять. Чай нормальный кирпичный, но вот молоко казашка умудрилась одну деревянную ложку распределить на всех. Из аула выехал снова на санях, и, выбирая остатки снега, мы с грехом пополам добрались до Чилика.
Попутно замечу, что в Лубянку прислали сразу двух двадцатипятитысячников, тоже донбасских шахтеров, но людей другого сорта. За колхоз они взялись обеими руками, реорганизовали коммуну в артель. И вообще об их деятельности слыхал только похвальное.
Я надеялся, что меня вызвали в РИК, чтобы отправить домой, но не тут-то было. Меня послали «для усиления работы» в Успенский сельсовет к западу от Чилика. Почетная роль, но меня она уже не воодушевляла. В Успенке я пробыл с 17 по 28 марта, но по существу так и не принялся за работу.
Тут как раз пришли газеты с письмом т. Сталина колхозникам и статьей «Головокружение от успехов». Начался отлив из колхозов. Хуже всего, что выбывшие требовали обратно ссыпанные в колхозный амбар семена. В Успенке дело чуть до бунта не дошло: экс-колхозники собирались силой ломать замок у амбара.
Но тут неожиданно моя деятельность как уполномоченного закончилась. В Успенку приехал предРИКа Кошенов и сообщил, что округ требует возвращения всех командированных им уполномоченных, ввиду чего мне следует съездить еще на кустовое совещание по поводу статей т. Сталина, созываемое в соседнем сельсовете, и после этого отправляться домой.
Радость моя по этому поводу понятна. После совещания я с предРИКа вернулся в Чилик и в первую очередь договорился о подводе.
На другой день рано утром я зашел в финотдел, чтобы получить на дорогу деньги. Подбегает какой-то парнишка: «Ты Катаев?» — «Я». — «Секретарь тебя к себе требует». — «Подождет». Получил я деньги и пошел к секретарю РК ВКП (б), умному и живому казаху Агдаулетову. После вступительного разговора он спрашивает: «Что думаешь делать?» — «Домой ехать». — «Никуда ты не поедешь. Мы тебя пошлем уполномоченным в Алмазное».
Ну уж тут я решил не сдаваться. Я заявил, что округ меня отзывает и я считаю это решение правильным и никуда больше не поеду. Напрасно секретарь заявил, что округ ничего не понимает, что им здесь виднее, как использовать людей, что я считаюсь опытным работником (это я-то!), что в конце концов мне дадут выбрать любой сельсовет по желанию. Я был непоколебим. «А деньги ты получил?» — «Получил». — «Жаль!» В заключение он стал мне грозить взысканием, но и тут я себя чувствовал на твердой почве: в районной организации я на учете не состоял, а жаловаться в округ (как он обещал) на то, что я выполнил решение округа, было бы неосновательно.
К полудню мы уже переправились через взбухший Илек и очутились в Оренбургщине. Это сразу сказывалось даже в характере домов станций Буранное, Изобильное и других, не похожих на то, что я видел в Чингирлауском районе. Когда наконец на станции Илецкая я увидел родную маневрушку, я чуть не расцеловал ее от радости, так надоела мне, хоть и сытая и почетная, жизнь на селе.
В окружкоме комсомола меня встретили как запропастившегося. Вполне одобрили всю мою деятельность и решительность отказа задержаться еще в районе.
В Челкаре меня встретили Витька Лазаренко и Ванька Ларкин и заставили меня пойти в фотографию сняться в том виде, как я приехал: в кожаной тужурке, заросшего бородой. Эта карточка и сейчас у меня хранится.
3 апреля 1944 года
P. S. Владимир Катаев:
— Кстати, вот еще документ времени. Среди бумаг отца нашел письмо, полученное им в январе 1958 года из Академии наук СССР. Тогда, через несколько месяцев после запуска первого спутника, о перспективах полета человека в космос писали так, что на этом пути потребуется много лет и возможно много жертв среди тех, на ком будут испытаны попытки возвращения из космоса на Землю. И вот отец, к тому времени инвалид Отечественной войны (он жил в Челябинске, а я учился в Москве), предложил себя использовать в этих экспериментах, даже ценой собственной жизни. Сейчас это кажется наивным, и специалисты, конечно, не приняли предложение. Но это характерный штрих к настроениям того времени и к личности того комсомольца двадцатых годов.
Академия наук СССР
Комитет по Международному геофизическому году 1957—1958
Ref. № 88-040/137 28 января 1958
Уважаемый тов. КАТАЕВ!
Междуведомственный комитет по проведению Международного геофизического года благодарен Вам за искреннее желание и готовность ценой своей жизни содействовать успехам в области космических полетов.
Вместе с тем сообщаем, что Ваша просьба о привлечении Вас к исследовательским полетам в космическое пространство в настоящее время не может быть удовлетворена.