В рамках проекта «Наша Победа»
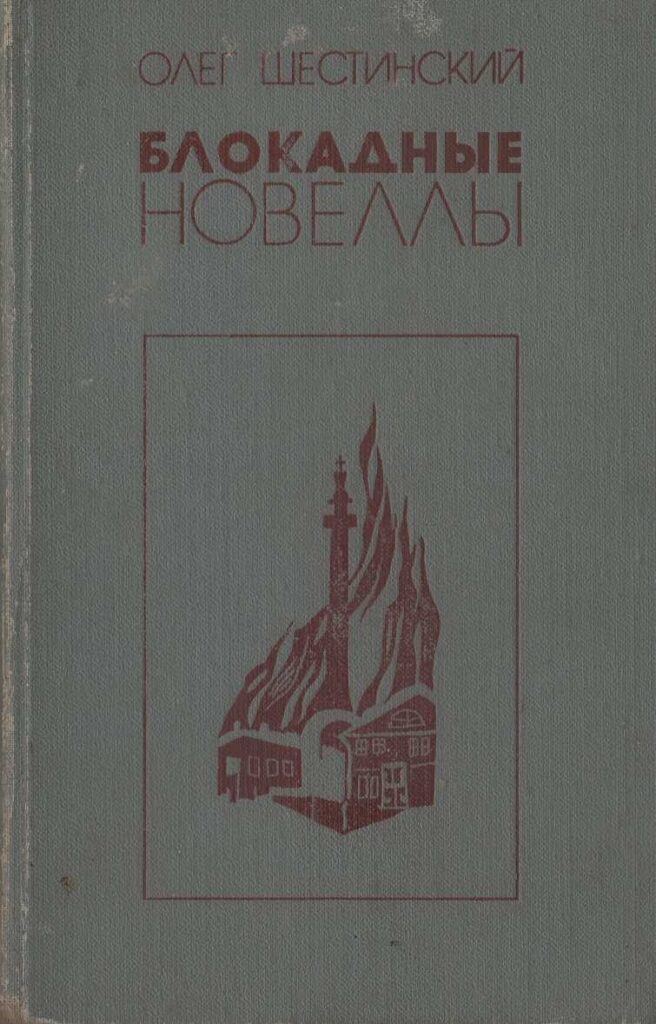
Олег Шестинский «Блокадные новеллы»
Всё-таки земная слава испаряется со страшной скоростью – иногда это происходит оправданно, чаще – нет. Почему книги одного писателя остаются в памяти, на книжных полках и в школьной программе, а другие исчезают чуть ли не бесследно? Проще всего было бы объяснить происходящее наличием или отсутствием таланта, но всё-таки, как говорят подростки, «это так не работает». Вот, например, «Блокадные новеллы» Олега Шестинского (да и другие книги этого замечательного автора) сейчас крепко забыты, хотя это не просто хорошая проза, а, что бывает значительно реже, проза, способная повлиять на юного читателя, сформировать в нём нравственный каркас без морализаторства и прямолинейного догматизма. Перечитывая «Блокадные новеллы» сейчас, будучи взрослым человеком, я вспоминаю, как ребёнком читала их взахлёб – и воспринимала рассказанные писателем маленькие истории в качестве некого морального эталона. Ну а что? Евангелия ведь мне тогда никто читать не давал! Теперь я даже думаю, что в детстве эта книга повлияла на меня едва ли не сильнее других прочитанных, что я неосознанно ориентировалась на описанные в ней семейные отношения, что во многом благодаря ей научилась ценить в людях способность к самопожертвованию, великодушие, благородство и дар любви. Прежде всего, конечно, любви материнской. И неслучайно «Блокадные новеллы» имеют посвящение – «Памяти моей матери Тамары Олеговны»…
Олег Шестинский (1929—2009) был подростком, когда началась Великая Отечественная война. Вместе с матерью он пережил Ленинградскую блокаду от первого и до последнего страшного дня. Мама будущего писателя заведовала терапевтическим отделением больницы на 27-й линии Васильевского острова, отца призвали в ополчение. Жила семья на Петроградской стороне, и каждый день Тамара Олеговна ходила пешком на Васильевский, в больницу. Пять километров туда, пять километров обратно, в любую погоду, шатаясь от голода и умирая от страха за сына, который мог погибнуть под бомбёжкой…
Когда Шестинский рассказывает о блокадных буднях Ленинграда, повествование от первого лица часто сменяется лицом третьим, но и в этих историях почти всегда действуют «мама» и «мальчик». И третий полноправный персонаж – спасительная любовь этих двоих. Как сказала одна из героинь книги (новелла «Мопассан»):
«– Чудак! Знаешь, почему мы с тобой выжили этой зимой?
– Нет.
– Потому что нас кто-то очень-очень любил. Правда?»
Эта мысль проходит через всю книгу Шестинского «дорогой жизни», она прослеживается в каждой новелле, одну из которых я хочу привести целиком.
КОЛЬКА И КОТЬКА
Жили в противоположном доме, как раз напротив наших окон, Колька и Котька. Два брата. Я с ними особой дружбы не водил, но во время дворовых игр часто дрался на медных шпагах. Концы шпаг мы вымазывали в дегте, чтобы увидеть сразу, кто кого первым задел. Когда побеждал я, Колька и Котька шли домой перемазанные дегтем, и не успевали они в квартиру войти, как раздавался голос их матери:
— Опять дрались с этим из первого номера!
«Из первого номера» — это был я.
…Зимой сорок первого года Кольку и Котьку я встречал редко.
Потух в городе свет. Вмерзли в снег трамваи. Шли самые жестокие осадные дни.
Однажды из своего окна я увидел Кольку и Котьку. Они шли через двор к воротам и тащили за собой санки. Обычные санки. Пустые.
«Куда это они, ведь не кататься же?!» — подумал я.
Дня через два я снова увидел их с пустыми санками, и еще через несколько дней…
Как-то они попались мне навстречу, когда выходили из ворот.
— Куда? — спросил я.
— Дела, — уклончиво ответили братья.
Я проводил их взглядом. Они шли вдоль тротуара к Тучкову мосту, оба маленькие, со смешно торчащими ушами шапок, в цветных рукавицах. Рукавицы им, наверное, еще до войны мать связала — белые елочки и крестики. Мальчики держались за веревочку, и издали варежки казались красочными и удивительными. Через минуту я забыл о братьях — своих забот столько.
Однако вскоре случайно узнал, куда они ездят.
Мать их работала на Васильевском острове, километров за пять от дома, и каждый день часа два медленно совершала весь этот путь. Она возвращалась с работы постаревшая и сидела на диване, вытянув ноги, чтобы прийти в себя. Колька и Котька разували ее и приносили тазик с горячей водой. А потом они решили ездить на Васильевский — встречать на санках мать.
Мать увидела их первый раз на Большом проспекте, они стояли рядом, озябшие, брови в инее, притопывали, вглядываясь в мутную даль проспекта. Она рассердилась: «Куда вы?! Зачем?!» Но Колька — он был старшим — посмотрел на мать и строго сказал:
— Садись.
Мать растерялась, заплакала, обняла сыновей, но они вывернулись из ее объятий, и младший — Котька — повторил вслед за братом властно:
— Садись, мама.
Мать села, но когда они доехали до дома, почувствовала, что устала гораздо больше, чем если бы шла пешком. Всю дорогу она волновалась, порывалась встать, все время беспокоилась, не тяжело ли ее мальчикам.
На следующий день они снова ждали ее на проспекте. И тогда мать накричала на них, сказала, что они глупят, но Колька взял ее за плечи и усадил на санки. А когда приехали домой, мать удивилась, что впервые после тяжелого рабочего дня не гудят ноги, и снова слезы навернулись у нее на глазах, но она никому их не показала.
Мать говорила сыновьям, что у нее сверхурочная, что она придет поздно и не надо ее встречать. Но сыновья все равно ждали ее в обычном месте, и мать краснела, как девушка, потому что обманывала их, — у нее не было сверхурочной.
Она жалела их и решила ходить другим путем — через мост Строителей. Два раза Колька и Котька вернулись домой одни. На третий раз мать увидела у моста Строителей с санками только Кольку. Она испугалась и еще издали крикнула:
— А где Котик?
— Он ждет с другими санками у Тучкова.
Они возили мать всю зиму. Когда попадали под обстрел, бежали в убежище, а санки стояли в подворотне. Обстрел кончался, и мать ехала дальше. Братья подъезжали к дому, и соседи смотрели на них с уважением, а дворничиха даже стала звать старшего не Колькой, а Николаем.
Они пережили всю осаду и голод, и мне всегда казалось, что иначе и не могло быть, потому что они трое очень любили друг друга.
Скорее всего, эта трогательная история произошла с самим автором, это он, а не Котька с Колькой, встречал маму после работы с санками – но, не желая хвалиться, приписал всё отважным соседским парнишкам. Да и в новелле «Приключения коржика», грустной блокадной сказке, мы вновь узнаём Олега Шестинского в образе главного героя, безымянного мальчика, ставшего по чистой случайности обладателем целого коржика (зубчатого, как колесо, твердого, как камень).
Война глазами подростка показана Шестинским предельно честно, ведь юность не терпит фальши. Один из важных мотивов книги – как менялись взрослые люди, переживающие блокаду. Сильные, умные, временами недосягаемые, они вдруг превращались в слабых, зависимых и уязвимых, как будто младших по возрасту. Учителя и соседи мальчика, умирающие от голода, виделись с другой, пугающей стороны. И даже родной отец вдруг оборачивался несчастным, слабым человеком:
«Как-то отец принес столярный клей. Он разогревал его до тех пор, пока клей не превратился в полужидкую массу. От нее валил пар, щекотал ноздри. Отец перелил дымящийся клей в жестяную кружку, взял ложку, и, обжигаясь, стал хлебать варево. Я смотрел, как он ест.
– Дай попробовать.
Он быстро взглянул на меня, бросил скороговоркой:
– Не станешь есть! Не станешь есть! – и, зажав, обеими руками кружку с клеем, ушел из комнаты.
– Мама, отец мне родной? – неожиданно спросил я.
Она вздрогнула от моего вопроса.
– Что ты говоришь? Конечно!»
Как просто рассказано, правда? Как понятны чувства, переживания не только смертельно голодного мальчишки, но и его отчаявшегося отца. Столько всего сразу в этих словах – «Не станешь есть!» – и стыда за то, что приходится есть такое, и нежелания делиться с сыном…
При этом образ матери в каждой из новелл всегда безупречен и всегда узнаваем (пусть даже речь идёт по замыслу автора не об одной конкретной женщине, а о десятке блокадных матерей). Она всегда ставит интересы, здоровье, жизнь близких выше собственных. Она спасает умирающего учителя математики, одинокого старого человека, у которого нет сил ходить в булочную за пайкой блокадного хлеба – и помогает ему, как может («Учитель математики»). Она заботится о больных своего отделения, как о родных людях («Вера. Надежда. Любовь»). В июле сорок первого года она вывозит своего заболевшего мальчика из деревни в Ленинград – и бежит всю долгую дорогу за телегой, потому что возница беспокоится за лошадь, ей не вынести двоих («Путь через всю жизнь»). Она отдает единственную свою ценность – золотое кольцо, чтобы обменять его на сапоги для сына («Первой блокадной весной…»), но отказывает подлецу и трусу Пашкевичу, предложившему ей сделку – пусть, дескать, доктор подтвердит наличие у него эпилепсии, а он взамен будет снабжать её продовольствием. Глядя в голодные глаза своего сына, мать всё-таки отказывается от предложения – потому что по-другому нельзя. Нельзя по-другому! («Стук в дверь»). «Так и живи», – говорит мать, когда мальчик делит на всех тот единственный блокадный коржик с уже обгрызенными зубцами. Так и живите – хотелось бы сказать современным читателям «Блокадных новелл», вот только читателей у этой книги, к сожалению, не лишку. Я специально интересовалась у школьников, учителей, отдельно – у петербуржцев: нет, Шестинского сейчас почти не читают, имя его полузабыто, а жаль. Ведь даже если «Блокадные новеллы» не научат ничему нынешнего сытого подростка, всё равно читать их невозможно без слёз – и это хорошие, правильные слёзы.





